Змей и Радуга. Удивительное путешествие гарвардского ученого в тайные общества гаитянского вуду, зомби и магии. Уэйд Дэвис
БИБЛИОТЕКА••••
Получить доступ
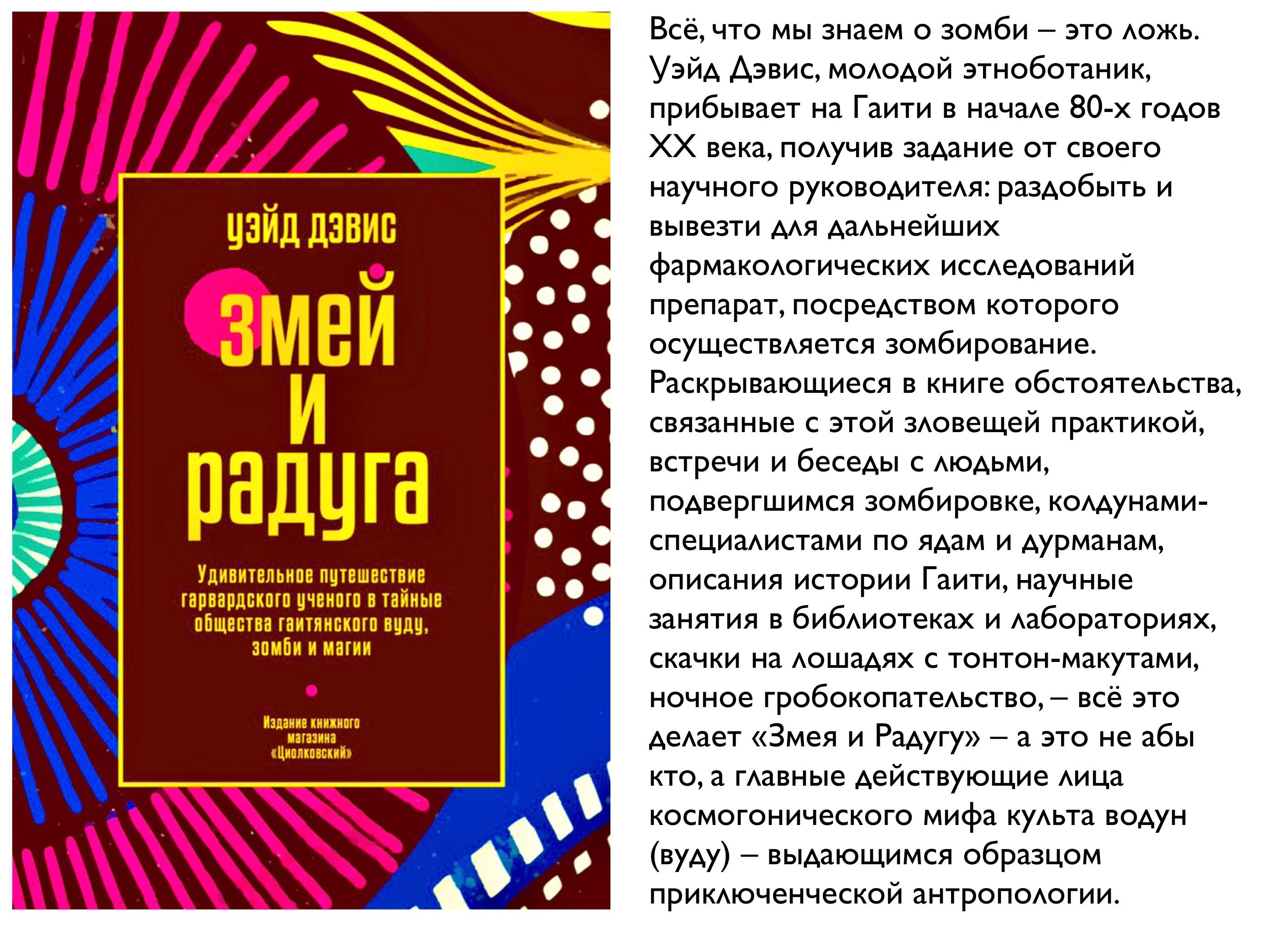
Часть первая. Яд
I. Ягуар

Первая встреча с человеком, который отправит меня на поиски яда гаитянских зомби, произошла сырым и паршивым днём в конце февраля 1974-го года. Мы сидели в кафе на Гарвард Сквер, я и мой сосед по комнате Дэвид. Детство этого парня прошло в горах на Западе. Смотреть за скотиной на его фамильном ранчо – этим занимались ещё его бабушка с дедушкой. По гарвардским нормам Дэвид был груб и неотёсан настолько, что в Гарварде его с трудом терпели. Я был родом с дождливого побережья Британской Колумбии. Мы подались на восток страны изучать антропологию, но после двух лет обучения нам обоим наскучило «про индейцев» просто читать.
Одну из стен кафе почти целиком занимала карта мира, которую, как я заметил, согреваясь за чашечкой кофе, Дэвид пристально изучал. Бросив взгляд на меня, затем на карту, он снова посмотрел на меня, только на сей раз его бородатая физиономия расплылась в широченной улыбке. Протянув к карте руку, он ткнул пальцем в клочок земли за Полярным кругом. Повторив его жест, я остановил свой выбор на верховьях Амазонки.
Дэвид покинул Кембридж в конце той же недели, а уже через месяц он оказался в посёлке эскимосов Ранкин-Инлет. Много месяцев пройдёт до нашей следующей встречи.
Мне, чтобы решиться отправиться на Амазонку, нужно было увидеться всего с одним человеком. Профессор Ричард Ивенс Шултс[8] был тогда полумифической личностью в университетском кампусе. Как и многие студенты с отделения антропологии и вне его, я относился к профессору с почтением на грани благоговения. Один из последних исследователей в викторианском смысле слова, он был нашим героем во времена, когда с ними было туго, человеком, который, взяв отпуск ради сбора целебных растений на северо-западе Амазонии, провёл в лесу под дождём двенадцать лет.
Позднее, в тот же день пополудни, я тихо проскользнул на четвёртый этаж, где расположен Ботанический музей Гарварда. Сдержанная и скупая, спартанская, отделка музея разочаровала меня с первого взгляда. Гербарии были расставлены чересчур педантично, хранительницы слишком серьёзны. А потом я открыл для себя лабораторию. Биолаборатория это, как правило, донельзя чистое место, где в зарослях пробирок и трубок мигают датчики, а от запаха экспонатов чахнет свежесрезанная роза. Здесь всё было иначе. Вдоль одной стены, увешанной ритуальными масками, выстроился целый арсенал духовых ружей и дротиков. За стёклами дубовых шкафов красовались самые распространённые психоактивные растения планеты. Соседнюю стену покрывала древесная кора. Повсюду стояли образцы растительной продукции всевозможных форм и составов – колбы с эссенциями и маслами, образцы древесного каучука, наркотические лианы и яды рыб, статуэтки из чёрного дерева, домотканые коврики и верёвки, десятки стеклянных сосудов, которые «выдули» вручную[9]. В них плавали тихоокеанские фрукты с плодами, напоминающими звёзды.
Потом я заметил фотографии. На одной из них Шултс стоял в шеренге индейцев, грудь профессора украшали замысловатые узоры, тощее тело прикрывала травяная юбка и балахон из древесной коры. На другом снимке он, в позе ящера, застыл на краю глыбы песчаника, уставился на океан лесной муравы под ним. Фото номер три – грязное хаки, пистолет на ремне, профессор рассматривает письмена на скале на фоне бушующего водопада. Эти сказочные образы было трудно отождествить с академической статью человека, бесшумно вошедшего в лабораторию.
– Ну, чем могу помочь? – спросил меня голос с отчётливым бостонским акцентом.
Оказавшись лицом к лицу с живой легендой, я оробел. Взбудораженный, я протараторил своё имя, место рождения (Британская Колумбия), сообщил, что кое-какие деньги от работы в лесничестве у меня остались, и что хочу отправиться на Амазонку для сбора растений. Про Амазонку я в ту пору знал совсем немного, а про растения и того меньше. Боялся, что начнут меня экзаменовать. Но вместо этого, неспешно окинув взглядом помещение, профессор присмотрелся ко мне сквозь старомодные окуляры очков, поверх стола, заваленного образцами растительности, и просто, без затей поинтересовался:
– Значит, на Амазонку за растениями. И когда бы вы хотели туда отправиться?
Две недели спустя состоялась финальная встреча, в ходе которой профессор Шултс вынул несколько карт и наметил возможные маршруты. Помимо этого, он дал всего лишь два совета. В покупке прочных сапог нет нужды, говорил он, поскольку тамошние змеи обычно впиваются в шею, а вот пробковый шлем – вещь незаменимая. Потом профессор от всего сердца понадеялся, что я не вернусь с Амазонки, не отведав аяхуаски, вина, вызывающего видения, одного из мощнейших растительных галлюциногенов. В общем, я вышел из кабинета профессора с чувством, что очень многое теперь зависит от меня самого. Через две недели я отправился из Кембриджа в Колумбию, без пробкового шлема, но с двумя рекомендательными письмами в медельинский Ботанический Сад, и запасом денег, которых хватило бы на год, если их тратить с умом. На тот момент у меня не было ни планов, ни представления о том, как повлияет на мою дальнейшую жизнь та сумасбродная выходка в кафе на Гарвард Сквер.
Три месяца спустя я сидел в убогой забегаловке на севере Колумбии, лицом к лицу с большим оригиналом, географом, старым товарищем профессора Шултса. Неделей раньше он предложил мне прогуляться по болотам в северо-западном уголке этой страны в обществе английского журналиста-аристократа. Англичанина звали Себастьян Сноу[10]. Он уже побывал на Огненной Земле – в нижней точке континента, и собирался посетить Аляску. Местность, куда зазывал географ, это Дарьенский разрыв[11] – 250 миль бездорожья в дождевом лесу, отделяющем Колумбию от Панамы. Два года назад целый взвод британской армии, ведомый школьным приятелем Себастиана, несмотря на то что у них была связь по рации, не избежал потерь, причём два человека погибло, о чём не сообщила печать. И вот теперь неугомонный журналист хочет показать, что маленький взвод людей, не отягощённый амуницией, может сделать то, чего не смогли его военные соотечественники – пересечь Разрыв благополучно.
К несчастью, сезон дождей был в разгаре – самое неподходящее время для таких экспедиций. Я уже имел кое-какой опыт пребывания в лесу под дождём, Сноу же, узнав, что я британский подданный, решил, что я готов сопровождать его куда угодно из солидарности. По его указанию, географ предложил мне должность гида и переводчика. Предложение показалось мне странным, если учесть, что в районе Дарьенского разрыва я не бывал ни разу. Тем не менее я согласился, не размышляя о назначении вплоть до вечера перед днём, когда мы отправлялись в путь. Тогда пожилая крестьянка изрекла, что меня ждёт, хотя я не особо просил. Она подошла ко мне там, где дорога упирается прямо в лес, и похвалила мои светлые волосы, золотистую кожу и глаза цвета морской волны. Не успел я поблагодарить за комплимент, как она добавила, что всё это пожелтеет, пока мы доберёмся до Панамы. Ситуация усугубилась ещё и тем, что географ, знакомый с территорией намного лучше меня, загадочно пропал в ту же ночь.
Самыми тяжкими стали самые первые дни, когда нам пришлось пройти обширные топи к востоку от реки Атрато. Разливаясь, она вынуждала нас преодолевать километры пути, шагая по грудь в воде. Однако по ту сторону Атрато стало полегче, и мы без труда продвигались от одного поселения индейцев чоко или куна[12] к другому, на ходу добывая провизию и вербуя новых проводников. Серьёзные проблемы начались, когда мы попали в Явизу – жалкий городишко, маскируемый под «столицу» провинции Дарьен, на деле будучи отстойником для всевозможных человеческих отбросов из сопредельных стран.
В те дни панамская жандармерия получила чёткую инструкцию вести себя с иностранцами построже, а мы как раз оказались единственными гринго, застрявшими в этой приграничной дыре. Нас там ждали. На пропускном пункте в двух днях пути до западной части кордона заплывший жиром жандарм конфисковал наш единственный компас. Теперь нас обвиняли в контрабанде марихуаны. При всей абсурдности, это был повод арестовать наше снаряжение. Себастьян превзошёл сам себя, силясь доказать, что если кто-то орёт благим матом по-английски, то туземцы его непременно поймут. Однако им не понравился его спектакль. Дела наши и так были плохи, но они стали хуже некуда, когда сержант, исследуя наш арсенал, наткнулся на сбережения моего компаньона.
Настроение коменданта изменилось вмиг. Он предложил нам осмотреть столичные достопримечательности, а вечерком снова с ним поговорить. Он улыбался нам во весь рот. Улыбка была широкой, как петля лассо.
Отшагав две недели, мы рассчитывали на несколько дней отдыха в Явизе, но наши планы изменились тотчас же после полученного предостережения. Покинув караулку, я доплыл на вёслах до пункта австралийской миссии, в надежде одолжить компас и планы местности, поскольку дальше лес был необитаемым. Один из миссионеров, встретив меня на причале, вёл себя как старый знакомый. Затем с серьёзным видом он сообщил, что по сведениям одного индейца, комендант замышляет перехватить нас в лесу и прикончить из-за денег. Миссионер этот, имея опыт жизни в здешних местах, настаивал на нашем скорейшем отъезде. Воротясь на гауптвахту, я незаметно изъял несколько предметов первой необходимости, уведомив коменданта о решении провести несколько дней в миссии, прежде чем продолжить путь вверх по реке.
Вместо этого, вооружившись двумя винтовками, заимствованными у австралийцев, мы покинули городишко до рассвета, в компании трёх проводников из племени куна.
И сразу же возникли проблемы. На случай погони индейцы повели нас окольным путём по каменистому дну реки. Себастьян споткнулся и сильно подвернул ногу. В тот первый ночлег мы узнали, каково это – спать на земле, когда сезон дождей в разгаре. Тщетно пытаясь согреться, я и трое индейцев жались друг к другу, поочерёдно занимая место в середине. Никто не спал. Под конец второго дня я начал подозревать, что эти жители прибрежных районов скверно знакомы с лесной чащей, а на третьи сутки я убедился, что они в ней совсем не ориентируются.
Нашим конечным пунктом был строительный лагерь в Санта-Фе, восточный конец отводной полосы Панамериканского шоссе в те годы. От силы двухдневный переход занял целую неделю.
Когда ты заблудился, важно не то, на сколько дней, а то, что никогда неясно, доколе. Это и гложет тебя ежесекундно. Мы добывали пищу с помощью ружей, но её постоянно не хватало, а утренние и вечерние ливни лишали нас отдыха. И всё-таки мы ежедневно проводили много часов на ногах, а в сезон дождей лес – жуткое место для тех, кому нечем защититься от природы. Травма Себастьяна не заживала, и как он ни держался, мы всё равно отставали из-за него. Зной и пёстрая натура вокруг, казалось, слились воедино, изысканно-красивые существа несли заразу, и даже тенистая зелень всевозможных обличий и вида таила в себе угрозу жизни. Бессонными и сырыми вечерами, сидя в слякоти под проливным дождём, я стал ощущать себя кубиком сахара, который вот-вот растворится.
Самый неприятный случай произошёл утром седьмого дня. Час назад покинув место, где ночевали прошлой ночью, мы столкнулись с первой живой душой с тех пор, как вышли из Явизы. Это был тихо помешанный лесоруб-одиночка, занятый устройством сада на расчищенном от зарослей участке. Когда мы спросили его, как добраться до Санта-Фе, он, не в силах сдержать смех, указал пальцем на едва различимую тропинку. Если идти в темпе, пояснил он нам, и повезёт, можем попасть туда через две недели. Его слова прозвучали настолько гнетуще, что мы не хотели верить своим ушам. Вымотанные морально и физически, с запасом патронов от силы на два-три дня… Но, не имея иного выбора, мы продолжили путь. Впереди шёл я с ружьём, потом Себастьян, а за ним трое индейцев. Мы шагали бодро до тех пор, пока лесная чаща не обступила нас вплотную. Дальше мы шли как во сне. Ничего не хотелось, и решимость нас покинула.
Пребывая в трансе, я видел, как в двадцати метрах от меня выпрыгнул чёрный ягуар. Замерев на мгновение, он отвернулся и сделал несколько широких шагов в предполагаемом направлении Санта-Фе, прежде чем, подобно призраку, снова исчезнуть в зарослях.
Его заметил только я, но оно было вполне реально, это предзнаменование, поскольку до Санта-Фе вместо двух недель мы добрались всего за двое суток. Тем же вечером мы нашли тропу, которая вывела нас на отросток шоссе. Всё это было испытанием нашей воли, и когда мы после стольких дней в тени вырвались на солнышко, Себастьян обнял меня со словами «пути Господни неисповедимы».
Тем вечером мы разбили лагерь возле чистого ручья и зажарили дикую индейку, добытую одним из индейцев куна, а потом заснули под звёздным небом. И наконец-то ночью не было дождя.
На следующее утро я встал рано, уверенный, что смогу добраться до Санта-Фе в течении дня. Наконец-то в желудке у меня не было пусто, а мысли не омрачала неопределённость. Я упивался свободой – путь открыт! – с неведомым доселе энтузиазмом. Ускорив шаг, я вскоре оставил моих спутников позади. Дорога вначале представляла собой извилистую тропу, снова и снова огибавшую эти места, как в сонном лабиринте. Однако уже через несколько миль она вывела меня на гребень холма, откуда внезапно открылся вид на Панамериканское шоссе – пустынный и плоский коридор стометровой ширины, уходящий за горизонт.
Словно олень на просеке, я инстинктивно отшатнулся, на миг поражённый открывшимся простором. Затем стал двигаться медленней, с опаской. Мои чувства, обострённые как никогда, отмечали малейшее трепетание и каждое движение. Ни спереди, ни сзади меня не было ни души, а лес отступил к склонам каньона. Больше ни разу не ощущал я такой свободы. Мне было двадцать лет и я, казалось, очутился именно там, куда мечтал попасть.
Прежде чем покинуть весенний Бостон, я пожелал себе «не убояться одиночества и бытовых неудобств, чтобы понять». Теперь, как мне казалось, у меня появились необходимые средства, и случайное свидание с ягуаром подтверждало, что природа на моей стороне. Пройдя Дарьенский разрыв, я рассматривал задания профессора Шултса как некие ребусы, интуитивное понимание которых может забросить меня в пределы, недоступные воображению. Смысл этих загадок я усваивал, как растение впитывает влагу, спокойно и без натуги. Со временем «дарьенский поход» сделался всего лишь одним из этапов этноботанического ученичества. В результате я обошёл западную часть Южной Америки почти полностью.
Учёную степень антрополога я получил в 1977 году. Два следующих года прошли вдали от тропиков, на севере Канады. Затем я вернулся в Гарвард как ученик профессора Шултса.
Шултс был не просто застрельщиком авантюр. Во всём том, что и как делалось в ходе экспедиций, были видна его сильная рука и личный пример, а «изучение растительных препаратов у туземцев» служило не более чем правдоподобной формулировкой их цели. Он провёл тринадцать лет на Амазонке, поскольку был уверен, что индейская медицина способна дать препараты, жизненно важные для всего человечества. Сорок пять лет назад он был в числе тех немногих, кто изучал особые свойства кураре, яда, которым туземцы смачивают наконечники охотничьих копий и стрел.
Обезьяна, поражённая дротиком с этим ядом, утратив контроль над мышцами своего тела, сразу падает к ногам охотников с верхушки дерева. Нередко причиной смерти животного становился удар о землю, а не токсичное вещество. Химический анализ охотничьих снадобий позволил получить d-тубокурарин, мощный мышечный релаксант, широко применяемый в хирургии. Виды, выделяющие кураре – малая толика из 1800 растений с медицинским потенциалом, открытых Шултсом только на северо-западе Амазонии. Он знал, что как в соседних точках региона, так и по всему миру ждут своей очереди тысячи других видов. На их поиски он нас и посылал. Так я подошёл к важнейшему эпизоду моей научной карьеры.
В конце дня (это был понедельник в начале 1982-го) мне позвонила секретарь профессора Шултса. Я как раз читал лекции его студентам начальных курсов, и решил, что мне предстоит обсуждать успехи студентов из моей группы. Войдя в кабинет с занавешенными окнами, я застал наставника за рабочим столом. Он поздоровался, не глядя в мою сторону.
– А у меня для тебя кое-что есть. Кое-что любопытное, – он вручил мне адрес доктора Натана Клайна[13]. Этот психиатр считался первопроходцем в области психофармакологии – дисциплины, изучающей воздействие наркотиков на мозг. Именно Клайн с горсткой единомышленников ещё в пятидесятые бросил вызов ортодоксальному фрейдизму, утверждая, что по крайней мере отдельные психические расстройства, будучи результатом химического дисбаланса, могут быть приведены в норму с помощью подходящих веществ.
Его опыты привели к разработке резерпина[14], ценного транквилизатора, добываемого из индийского змеиного корня. Это растение использовалось в ведической медицине на протяжении тысячелетий. Прямым результатом стараний доктора Клайна стало сокращение пациентов в психиатрических клиниках США с полумиллиона в пятидесятых годах до ста двадцати тысяч в наши дни.
Однако этот успех обернулся палкой о двух концах, сделав особу учёного темой для толков и пересудов. Один научный репортёр даже провозгласил Клайна патроном всех городских сумасшедших Нью-Йорка.
Шултс вышел из-за стола, чтобы ответить на звонок. Закончив разговор, он спросил меня, готов ли я, недели эдак через две, отправиться на Гаити?
II. Там, где почти смерть

Два дня спустя на пороге манхэттенской квартиры на Ист-Сайд меня встретила потрясающе красивая особа с пышной причёской в стиле моделей Ренуара[15].
– Мистер Дэвис? – мы с ней пожали друг другу руки. – Я – Марна Андерсон, дочь Натана Клайна. Милости прошу.
Резко оборотившись, она провела меня через белоснежный, будто бы больничный коридор в комнату, пестрящую красками. Обойдя огромных размеров банкетный стол, ко мне приблизился невысокий мужчина в полотняном белом костюме, под которым был виден парчовый жилет.
– Стало быть, вы – Уэйд Дэвис. А я – Натан Клайн. Рад, что вы смогли добраться.
Кроме нас в комнате было человек девять. Представляя каждого гостя по отдельности, Клайн делал это формально, давая понять, что никто из них не представляет интереса. Он задержался только возле старика, неподвижно сидевшего в углу.
– Разрешите познакомить вас с моим давним коллегой – профессор Хайнц Леман, бывший завкафедрой психиатрии и психофармакологии в Университете Макгилла.
– О, мистер Дэвис, – тихо произнёс профессор. – Рад слышать, что вы тоже подключились к нашей маленькой авантюре.
– Как, я уже «подключился»?
– Само собой. Впрочем, там видно будет.
Клайн проводил меня к дивану, где, попивая коктейль, болтали трое милых, но безликих дам. После короткого обмена сплетнями последовали несколько обременительные расспросы, кто я и что я по жизни. Я сбежал от них при первой возможности и, петляя между гостей, протиснулся к стойке с напитками. Комната ломилась от произведений искусства – гаитянская живопись, старинные игры и головоломки, персидский шкаф с позолотой, «рощица» незатейливых флюгеров индейского производства, подвешенные под потолком паровозики.
Огни большого города выманили меня на балкон. Низкие тучи скользили в тёмных коридорах, медленно поглощая вершины небоскрёбов, а снизу долетало шуршание шин, скользящих по мерцающей мостовой. Сквозь стекло балконной двери мне было видно, как шустро носится по комнате Клайн, выпроваживая последних гостей.
Делал он это с нарочитой бравадой старика, щеголяющего прытью не по возрасту, которую ты должен оценить. Роль врача была ему не к лицу, он больше походил на тщеславного поэта. С другой стороны, худой, высокий и хрупкий Леман смотрелся прирождённым психиатром, и меня так и манило узнать, чему бы себя посвятил этот человек в эпоху, когда люди ещё не были готовы изливать душу психоаналитикам.
Марна составила компанию отцу на пороге квартиры. Взявшись за руки, они прощались с гостями. Видно было, как она близка с папой. Взгляд отца и жест дочери последовали одновременно и выманили меня с балкона.
Когда не стало посторонних, комната как-то странно ожила. Леман, заметно расслабившись, встал в центре комнаты с ободряющей улыбкой.
– Позвольте мне прояснить обстановку, чтобы вы не подозревали неладного отныне, мистер Уэйд. Профессор Шултс рассказал нам о вашей страсти к необычным местам. Мы собираемся отправить вас на пограничье смерти. И если то, о чём вы сейчас услышите – правда (а мы почти уверены, что так оно и есть), то есть на свете мужчины и женщины, застрявшие в нескончаемо длящемся «сейчас», там, где прошлое ушло в небытие, а будущее состоит из страха и несбыточных желаний.
Я с недоверием взглянул сначала на него, затем на Клайна, который машинально продолжил речь Лемана.
– Сложность номер один – определить, когда мёртвый мёртв на самом деле, – сказав это, Клайн сделал паузу, тщательно изучая мою реакцию на свои слова. – Точная диагностика смерти – проблема многовековая. Петрарку едва не похоронили заживо[16]. С точной её диагностикой не всё обстояло просто у древних римлян. Писания Плиния Старшего полны сообщений о людях, в последнюю минуту снятых с погребального костра[17]. Чтобы пресечь подобные недоразумения, римскому императору пришлось законодательно запретить предавать покойника земле ранее, чем через восемь суток после смерти.
– Что и нам не помешало бы, – вмешался Леман. – Вспомни тот случай в Шеффилде!
Ответив коллеге кивком, Клайн повернулся ко мне:
– Чуть менее пятнадцати лет тому назад группа британских медиков, экспериментируя с портативным кардиографом в шеффилдском морге, зафиксировала признаки жизни у девушки, умершей от передозировки наркотиков.
– Почти тогда же имел место ещё более сенсационный случай, – добавил Леман с улыбкой. – Причём, здесь, у нас в Нью-Йорке. Вскрытие в городском морге было прервано после первого надреза на трупе. Пациент вскочил и схватил за горло врача, который тут же скончался от шока.
Я глядел на моих собеседников, тщетно скрывая нарастающий ужас. Их голоса звучали по-стариковски обстоятельно и бесстрастно. Близость грядущей смерти пропитала их мозги настолько, что неотвратимость этого процесса стала для них забавной. Я был вынужден то и дело напоминать себе, что передо мною светила американской науки, чья деятельность удостоена наивысших наград.
– Согласно определению смерти она представляет собой необратимое прекращение жизненных функций, – Клайн, сомкнув ладони, с улыбкой откинулся в кресле.
– Но что именно следует считать их «прекращением», и как в точности обозначить каждую функцию в отдельности?
– Дыхание, пульс, температура тела, трупное окоченение… что там ещё? – неуверенно подсказал я, всё ещё не понимая, на что намекают оба научных светила.
– Когда как. Дыхание порой продолжается при неуловимых колебаниях диафрагмы. Кроме того, его отсутствие может означать «приостановку», а не полное прекращение. Что касается температуры, людей то и дело извлекают живыми из-подо льда и сугробов.
– Глаза мертвецов также не ни о чём не говорят, – добавил Леман. – Мышцы зрачка после смерти могут сокращаться часами. Разве что цвет кожи…
– Едва ли подходящий пример, – Клайн зыркнул на Лемана, недовольный тем, что его прервали. – «Смертельная» бледность у людей, имеющих от природы белую кожу, ещё ни о чём ни говорит. Относительно пульса: любой снижающий давление препарат может сделать биение сердца неразличимым. Например, при глубоком наркозе присутствуют все главные признаки смерти: внешне незаметное дыхание, вялый и замедленный пульс, пугающе низкая температура, полная неподвижность.
Плеснув себе бренди, Клайн подкрепил свои доводы цитатой из классики:
Ни теплоты не станет, ни дыханья
Ничто не обличит, что ты живёшь[18].
– Говорит это Джульетте брат Лоренцо у Шекспира, господа. Пожалуй, самая знаменитая в нашей литературе отсылка к летаргическому сну живой души, вызванному неподобающими снадобьями.
– Итак, – резюмировал Леман. – Удостовериться в смерти можно лишь двумя способами. Один из них, по всем параметрам непогрешимый, предписывает произвести кардиограмму и провести сканирование мозга, что невозможно без дорогостоящего оборудования. А второй, самый надёжный, это признаки разложения. Оба требуют времени.
Выйдя из комнаты, Клайн принёс один документ на французском, предложив мне ознакомиться с его содержанием. Это было свидетельство о смерти, датированное 1962 годом. Усопшим в нём числился некто Клервиус Нарцисс.
– Проблема в том, – пояснил Клайн, – что сей Нарцисс и теперь живее всех живых. Он снова поселился у себя в долине реки Артибонит, это центр Гаити. Родня в один голос твердит, что этот человек пал жертвой культа вуду, и вскоре после погребения был извлечён из могилы в состоянии зомби.
Зомби… В голову лезла дюжина банальных вопросов, но я промолчал.
– То есть живой мертвец, – уточнил Клайн и продолжил, – вудуисты верят в то, что покойников можно оживлять с целью продажи бедняг в рабство. Во избежание столь печальной участи, родные и близкие могут и «прикончить» труп своего близкого вторично, пронзив ножом сердце или отделив голову от тела, пока оно лежит в гробу.
Переводя взгляд с Клайна на Лемана, я пытался оценить степень серьёзности одного и другого. Их дуэт выступал слаженно. Клайн обрисовывал идеи на грани научной фантастики, а Леман не давал беседе выйти за рамки здравого смысла. Впечатление стало сильней, когда он тоже заговорил о зомби.
– Случай с Нарциссом не первый в нашей практике. Мой воспитанник Ламарк Дуйон ныне заведует Психоневрологическим Центром в Порт-о-Пренсе. Сотрудничая с доктором Дуйоном, мы регулярно проверяли все сообщения о фактах зомбирования. Нам не везло годы напролёт, пока в 1979 году не произошёл прорыв, и в сферу нашего внимания попало сразу несколько личных дел, лишь одно из которых касалось Нарцисса.
Самой недавней из жертв, по словам Лемана, стала некая Натажетта Жозеф, примерно шестидесяти лет от роду, якобы убитая в споре за участок земли в 1966-м году. Четырнадцать лет спустя в районе родной деревни её заметил и опознал тамошний полицейский, тот самый, что когда-то, за отсутствием врача, констатировал смерть этой гражданки.
Среди зомби помоложе фигурирует некая Франсина Иллеус, по прозвищу «Мадам Ти», которая официально умерла в 30-летнем возрасте 23 февраля 1976-го года. Перед смертью она страдала проблемами с пищеварением, и была помещена в госпиталь округа Сен-Мишель. Спустя несколько дней после выписки она скончалась в своём доме, и её смерть была заверена местной магистратурой. На сей раз всё подстроил ревнивый муж. В деле Франсины были две примечательных детали – три года спустя её узнала мать по шраму на виске, полученному в детстве, а откопанный впоследствии гроб оказался до отказа наполнен камнями.
Затем, в конце 1980-го года гаитянское радио объявило, что в северной части острова обнаружена группа лиц, явно бродивших бесцельно в неадекватном состоянии. Крестьяне, решив, что это зомби, сообщили о них местным властям, после чего несчастные были отправлены в большой город Кап-Аиттьен и отданы под опеку военного коменданта. С помощью военных медиков большую часть предполагаемых зомби удалось вернуть в родные деревни, подчас расположенные довольно далеко от мест, где их нашли.
– Эти три примера, при всей их несуразности, выглядят наиболее убедительно в потоке других сообщений гаитянской прессы на аналогичную тему, – отметил Леман.
– В деле Нарцисса есть одно важное обстоятельство, – продолжил Клайн. – Он умер в американской гуманитарной миссии, где принято тщательно фиксировать происходящее.
Сказав это, Клайн перешёл к подробному описанию невероятной истории, в центре которой оказался простой гаитянин Клервиус Нарцисс.